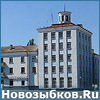В ноябре этого года исполнилось 90 лет со дня рождения Григория Иосифовича Писаревского (1925-2011). Родился он в нашем городе, учился в школе №2. Годы начала Великой Отечественной войны, после седьмого класса, пережил в эвакуации в Казахстане. Работал в колхозе и рабочим на железной дороге. Там был призван в армию, участвовал в разгроме Квантунской армии, войну закончил в освобожденной от японских войск Манчжурии. Награжден многими боевыми орденами и медалями. После демобилизации работал в Забайкалье сотрудником редакции газеты, председателем райисполкома, затем – руководителем одного из сельских коллективных хозяйств.
В ноябре этого года исполнилось 90 лет со дня рождения Григория Иосифовича Писаревского (1925-2011). Родился он в нашем городе, учился в школе №2. Годы начала Великой Отечественной войны, после седьмого класса, пережил в эвакуации в Казахстане. Работал в колхозе и рабочим на железной дороге. Там был призван в армию, участвовал в разгроме Квантунской армии, войну закончил в освобожденной от японских войск Манчжурии. Награжден многими боевыми орденами и медалями. После демобилизации работал в Забайкалье сотрудником редакции газеты, председателем райисполкома, затем – руководителем одного из сельских коллективных хозяйств.
После возвращения в Новозыбков в 1957 году был назначен на должность директора кожевенного завода, а затем – ДОЗа. Состоял членом горкома КПСС. Именно на годы его руководства приходятся самые успешные периоды развития этих предприятий, а деревообрабатывающий завод в его бытность стал одним из ведущих предприятий города. За свой труд был награжден рядом правительственных наград, отмечен званием Почетный гражданин Новозыбкова.
Хорошо известен был Григорий Иосифович и как литератор – интересный прозаик, тонкой духовной организации поэт. Его творческое наследие составляют весьма значительное, даже по меркам профессионала, число литературных произведений – стихотворений, рассказов, повести, очерков и мемуаров. Впервые попробовал свое перо еще в послевоенные годы.
В новозыбковской печати его писательские труды появились в начале 1980-х годов. Почти каждый выпуск городской литературной страницы не обходился без публикации под фамилией Г. Васильев – псевдонима, которым стал подписываться еще в бытность работы в городе Сретенске Читинской области.
После ухода в 1988 году на пенсию, Григорий Иосифович полностью отдается литературному труду. На страницах местных печатных изданий появляются все новые и новые его произведения. Помимо успеха у читателей они показали обоснованность притязаний автора на творческую оригинальность, подчеркнули несомненное мастерство уже сложившегося художника слова. Не вызывало сомнений, что такой прорыв не мог возникнуть на пустом месте – просто его многогранный талант получил дальнейший стимул для развития.
Темы и сюжеты ему не нужно было придумывать. Подавляющее большинство его литературных произведений посвящены простым людям – сельским труженикам, рабочим, солдатам, с которыми вместе воевал, работал и служил сам, делил хлеб и воду. Он далек как от простой развлекательности, так и чуждой ему назидательности. Прекрасны в его стихах и рассказах описания природы, многое навеяно любовью к нашему городу, где он родился и вырос. Присущ ему и тонкий незлобивый юмор, которым пронизано немалое число его произведений. Не выглядит чужеродным включение яркого и своеобразного народного говора, – языка тех людей, с которыми ему приходилось общаться.
В своих произведениях Григорий Писаревский затрагивал многие стороны человеческого бытия, поднимал нравственные и этические вопросы, осмысливал нашу историю и свое место в ней. А доскональное знание жизни позволяло ему создавать достоверные образы своих героев. Прожив сложную и неспокойную жизнь, он сохранил в своей душе веру в лучшее предназначение человека, в реальное воплощение его нравственных и духовных идеалов, что и передавал нам через написанное слово.
Будучи настоящим патриотом своего города, хорошо знал и любил его прошлое и настоящее. Немногие знают, что на памятном сооружении, воздвигнутым в честь 300-летия Новозыбкова, отлиты в металле строки, автором которых также является Г. И. Писаревский. Это послание в будущее также стало одним из «нерукотворных» памятников ему.
Первая и единственная книга Г. Писаревского, сборник стихов и рассказов «Как упоительны в России вечера» была издана в 2001 году. Включила она в себя 35 рассказов и 20 стихотворений с несколькими добавлениями – отнюдь не полный список всего созданного им. К сожалению, так и осталась в рукописном варианте повесть «Я был с ними», отрывки из которой неоднократно появлялись на страницах не только местных, но и областных изданий. Сказалось здесь и то, что написанное без прикрас и лакировки повествование о трудных послевоенных годах в сибирской глубинке не всегда соответствоало принятым установкам. Повесть готовы были взять в печать, но с изъятием некоторых, не совсем приятных своей обнаженной правдой описаний. Он отказался ее переписывать, ни на иоту не поступился своими принципами, что и стало причиной отказа в ее выходе в свет. Повесть до сих пор ждет своего издателя.
Умер Григорий Иосифович в 2011 году, за несколько дней до праздника Победы, который всегда был для него главным в жизни. Его он отмечал особо, в ветеранском строю, с наградами на груди. До последних дней не выпускал он из рук и главное свое оружие – ручку и бумагу, – ими он сражался за идеалы человеколюбия, которым остался верен навсегда. И очень жаль, что на мемориальной доске, открытой на его бывшем доме в прошлом году, так и не была отмечена его главная ипостась – писателя, властителя человеческих душ. Ведь именно духовное наследие, которое он оставил будет наиболее памятно пришедшим на смену поколениям, станет, несомненно, самым востребованным воспоминанием о нем.
Он был умным и доверительным собеседником, общение с ним всегда доставляло истинное удовольствие знанием жизни, заряжало оптимизмом, трогало чуткостью и моральной поддержкой в трудную минуту. Будем надеяться, что наш город сохранит память о своем гражданине с большой буквы не только памятным знаком на доме где он жил, но и еще более прочным увековечением имени – сохранением, обработкой и представлением широкому читателю всего его творческого наследия.
ИСТОРИЯ БУХАНИСТОГО
(Отрывок из повести «Я был с ними»)
Был в колхозе один переселенец из западных областей Ефим Буханистый. Мужик – за пятьдесят, с черножгучими глазами, обросший полуседой щетиной, жилистый и злой. В Улинке он появился через тройку лет после войны, тощим, желтым доходягой, с сухим кашлем и нездоровым румянцем на впалых землистых щеках. Оклемался у принявшей его солдатской вдовы, отгрохал из лиственницы пятистенок, завел хозяйство, породил четверых чернявых, диковатых пацанов. Жил он обособленно, под сопкой у речушки, ни с кем не общался, к себе никого не звал. Работал Буханистый со звериной отупелостью: молча косил траву по колкам вдоль вертлявых речушек, или метал сено, беспрестанно покашливая и колючими угольками сузившихся, глубоко запавших глаз подгонял замешкавшихся неторопких напарников, избегающих, от греха подальше, связываться с Волком, как его окрестили мужики. Что привело его сюда – никто не знал, а заговаривать с ним не решались. На собрания он не ходил и вообще вылезал из своего логова лишь по нужде.
В ноябрьские праздники решили премировать в числе других и его: не гляди, что угрюм да зол, каждый бы так ворочал – горя бы не ведали. Я вызвал его, попросил быть на собрании, рассказал зачем. Буханистый энергично и торопливо, до потрескивания самосада, дотягивал цигарку, смотрел в окно, молчал. Я видел – он нервничает, что-то силится сказать. Не поворачивая ко мне головы, из глубоких впадин затравленно и с желчной иронией окатил меня белками глаз.
– Все? – выдохнул он. Повернулся и пошел.
На собрании Буханистый стоял прислонившись к стене и, беспрестанно чадя самосадом, угрюмо и бездумно наблюдал за людьми. Когда зачитали совместное с партбюро решение правления о премировании, он, притушив цигарку, покашливая подошел поближе и в стихающем говоре тихо, прерывающимся от волнения голосом сказал:
– Нияких премиев мне не нада. Я от савецкай власти и партии получил усе сполна, аж боле некуды…
И пошел, на ходу доставая кисет.
– Нет, постой! – взорвался Мишка. Это чем же тебе наша власть и партия поперек горла? Мы на фронте за власть нашу жизни не жалели, а ты на нее волком! Не вередуй, Ефим!
Остановившись, в нависшей тишине, на удивление спокойно, Буханистый сказал, обернувшись к президиуму:
– Ты, Миш, не трожь меня. Зла на тебя не дяржу, хоть ты и партейный…
И вдруг, решившись, он подошел к президиуму. У него дрожали губы, зрачки затравленно, с какой-то беспомощностью бегали в узких щелочках запавших глаз, лицо было бледным.
– Послухай-ка таперь, чево я скажу, – он закашлялся, вытер рот тыльной стороной ладони. – Ты пройшев войну и бачил многа горя, знаю. А я? Хто измерить и пойметь мои муки? А? Хто? – повторил он свой вопрос, обернувшись к залу. – Были у нас с бвтьком две коровенки, мерин, другой твари по паре… Нас всех, аж девять ртов, а робили… света белага не бачили, осока-полынь… Власти признали нас кулаками. Якие ж мы кулаки? Сроду досыта не наелись. Пришли ахтивисты з комсомолу и усе выскребли, усе подчистую, осока-полынь…
Буханистый примолк. Видно переживал прошлое. Свернул дрожащими пальцами цигарку, глубоко затянулся, зашелся в кашле. Пригнали нас, раскулаченных, на станцию, загнали старых и малых у халодные телятники, а дело было к осени, и с месяц тягнули у Краснаярск. С голаду и холаду памерли бабка, сынок и братик. А з Краснаярску на барже по Янисею завезли в тайгу. Яна с самых берягов идеть. Аставили пять семей, других павезли дале. Хатенка, якаясь стоить, схилилась… У ней колись охотники жили. Халадина, река у заберегах льдом узялась, жратвы ниякой…
Тихо в бывшей церкви, даже парни с девками на задних скамейках притаились.
– Эх, осока-полынь, – голос Буханистого дрожал. – Як успомню – ажник мороз по шкуре. Найшовсь среди нас один бывалый мужик. Ён еще при царе у якуюсь спедицию нанявся, бродил у етих краях. Милицинеры, што нас привезли, зкинули пилу да топоров пару. Ну, наделали рогатин, накрутили петель з провалаки, что валялась под лавкой… Зверья там навалом. Но ета патом, а папервой накапали ям, земля еще не дюже прамерзла, накрыли жердем да валежником… Вот табе и землянки. На полу разводили костры, дым тягнуло уверх, у дырку. Утром глядим друг на друга – хоть плачь, хоть смейсь: черти да и тольки, одни гляделки да зубы блестять. Настрадались за зиму – страшно успомнить. А по вясне цынга пошла. Дикага часнаку было мало, могеть и был он дале у трущебе, да силов не было за ним итить. Мерли как мухи. Да самага паследняга сваво часу не забуду як молодшая доченька тягнула ко мне тоненькие рученьки и тихим галаском просила: – «Тятенька, спаси мяне… я жить хочу…».
У Буханистого дрогнул голос и здоровенной, костистой лапищей смахнул он накипевшую слезу. Тихо. Всхлипывают женщины, а мужики гуще чадят самосадом. Гляжу на Мишку. У него глаза полны слез, не стыдясь, он вытирает их рукавом. У меня тоже ком в горле. Молчит Буханистый, глядит ничего не видящими глазами в страшные моменты своей жестокой судьбы, с трудом отходит от прошлого.
– К другой зиме у живых остались я да Ипатыч, тот бывалый мужик. Застыл тады я дюже и чуть было богу душу не отдал. З той поры нияк не можу збавиться ат етай хваробы. Шла война и нас с Ипатычем забрали у трудармию. Якой з мяне работник? А вот жа, выжил. Робил на Букачачинских да Чернышевских шахтах, подох бы у тех забоях, аттуль нихто не выходил на волю. Был там один начальник, добрый такий человек, дажеть не знаю як ен туды попав, туды усе боле злыдней пасылають. Могет зжаливсь над здыхающим бедалагой… Придеть, сядить и просит сказывать о житье-бытье. Ну, я усю правду-матку яму и вылажил. Однажды ен и гаворить: – Не робь, Яхвим, дяржись, што-либа придумаем. И точна, у сорак васьмым свабадили, етат начальник изделал, дай яму бог здоровья, ежли живеть. Ну, я и прихиливсь к вам сюды. Вот так-то, Миш. И где яна правда крестьянска? Ленин дав нам землю, наказывал шоб хозяиновали да гасударства не забывали… Рабочий класс тожеть кармить надо. Ета правильна, мы усе панимали. А што ети антихристы изделали? Хатять сами хазяиновать, тольки што нашими жиллями да гарбом нашим… Баюсь я их да смерти… Вот так-то, осока-полынь…
Буханистый закончил свой трудный рассказ и в полнейшей тишине пошел к выходу. Не доходя до дверей, повернулся к президиуму:
– Дак за што ж мяне любить ирадав етих?! – крикнул он полным ненависти голосом, потрясая хилыми кулачищами. – Яны ж згубили у мяне усю семью, усе здаровье, усю жизню!
Когда за ним захлопнулась дверь, старый свинарь Перебоев, отец Мишки, сипло подал с угла:
– А че, я верю ему. У нас тажно в тридцатом самых стоящих работяг объявили кулаками и по се ниче о них не слыхать. И семьи разбрелись кто куда. Видать исстрадался мужик, шибко худая доля досталась ему.
А через пару дней появились двое в форме и увезли угрюмого волка. А еще через неделю приехавшие инспектора описали имущество, а сноровистые активисты помогли им опустошить подворье Буханистого, оставив его семью в пустой избе, гулко резонирующей воплям несчастной его жены.
На душе у нас было муторно: не так, не по-людски обошлись с Буханистым. Ближе всех принял беду эту Мишка.
– За че взяли-то мужика? И так поиздевались. Пошто така несправедливость? Давай, паря, пошлем от колхоза письмо туда, в верхи… Там разберутся, – не успокаивался он.
Как-то в январский холодный вечер приехал Соломин. Он уже бывал у нас, встречался с людьми в поле и на фермах, заезжал на стан, где Перебоев ремонтировал трактор. Были у них дискуссии, в которых Мишкин темперамент под убедительными, спокойными доводами первого секретаря сминался, терял напористость. Но не всегда. Мишка тоже умел преподнести, и тгда Соломин замолкал, вбирая своими глазищами разгорячившегося собеседника и, дослушав его до конца, густо басил: – «Ладно, разберемся.»
Поговорили о делах. Улучив момент, я рассказал Соломину историю с Буханистым, просил вмешаться. Тот поугрюмел, молчал. Появился Мишка.
– Трофимыч, тут у нас одного колхозника зря арестовали…
Соломин перебил Мишку, сказав, что он в курсе дела.
– Ну и добре, – чуть успокоился тот. – Нашелся какой-то сукин сын, мать его в душу! Мне б его на расправу, патриота засраного, я б душонку его подлючую наизнанку вывернул… Мы с такими быстро управлялись на фронте.
У Мишки дергалась губа, по щекам ходили желваки. Он опять накалился и требовал немедленных мер на выручку Буханистого.
– Трофимыч, ты заступись за бедолагу, зря его взяли… Человек семьи и здоровья лишился из-за сук этих подлючих…
Слушает Соломин, смотрит распахнутыми серыми глазами на Мишку, поглаживает седоватый ежик волос на крупной голове и молчит.
– Ты пошто молчишь, Трофимыч? Жалко ведь мужика, говорю. Он с больными легкими, помрет ведь… И семью оставили в голой избе. Рази ж так можно?
Мишку не останавливают ни многозначительные жестикуляции парторга Гаученова, ни подталкивание кончиком костыля в валенок сидящего рядом одноногого Кожина.
– Вот что, – говорит Соломин, встав со стула. – Я постараюсь выяснить обстановку. Результат сообщу председателю.
Где-то по весне Соломин вызвал меня. Он хмур, под глазами мешки, смотрит в сторону. Я знаю, что у него язва и вид его объяснил себе болезнью.
– Ничего не получилось с Буханистым, — глухо и тихо сказал Соломин. — Он был осужден на восемь лет за антисоветскую агитацию с конфискацией имущества. Мне удалось выяснить, что отбывать срок его направили куда-то на север и вскоре он умер.
Прошло несколько дней. Как-то вечером прибежал ко мне домой взволнованный Мишка:
– Глянь-ка, Буханистый письмо прислал с человеком… Читай вслух, я че-то плохо разобрал…
Губа у Мишки дергается, он вытирает рукавом обильный пот от быстрого бега, да и от волнения. Письмо на оборванном куске серой оберточной бумаги, написано чернильным карандашом, коряво, валящимися вправо, влево прыгающими буквами, без знаков препинания:
– «Так што Миш здрастуй вот и решивсь наш спор навоевались мы с табой ты родину ат хвашистов защищал а са мной власть наша ваевала як с врагом народу а я дитенком з батьком як начав пахать аж да крайнега дни пахав якой я враг рази ж я супратив людей и як таперича ирадав етих бачить ежли яны усю маю жизню угробили ить у мяне ротам кров пашла чую што ат нервав балезня бастрилась и не сбачимся боле ну и будя наваевавсь Явхим от бы сюды тих двох што руки мяне крутили узвыли бы волками сучьи дети Миш перядай прозьбу предсядателю а магеть и сам ня дайте памяреть маей бедавухе страдалице Архипавне и сиратинкам непавинным эх осока полынь жизня якая чижолая письмо шлю з верным человекам ты бумажку ету зничтож ато хто капнить антихристам што ат врага народу палучив на том пращевай не паминай лихам непавинный перяд людьми и богам Явхим Буханистый 7 июня 1954»
– Сгубили мужика подлюки… Жалко-то как, – вытирая слезы, сдавленно сказал Мишка. Дай, Гринь, че-нибудь выпить… не могу, слеза прошибла… Помянуть надо, паря, невинно загубленного человека…
Помянули Буханистого. Мишка тащил меня к себе продлить поминки, но я отказался под укоризненными взглядами жены. А Мишка продолжил с Иваном Кожиным и назавтра был болен и хмур.
Не дали, конечно, мы помереть бедовухе Архиповне с детишками, хотя и пришлось объясняться у бдительных стражей порядка. А Мишку, схватившего было за грудки старшего лейтенанта, предъявившего претензии по поводу выделения семье врага народа коровы и поросят, чуть не посадили в КПЗ. Соломин вызволил, да и времена были другими.
Мой город в веках и доселе
Лежит в обрамленьи лесов,
В садах, как в зеленой купели,
В сияньи златых куполов.
В озера глядит пламенея
За тающей тучкой закат.
И катится, вечное сея,
Из звонниц печальный набат.
И в трепетном мареве тает
Речушка в пустых берегах,
А в сердце грозой нарастает
Тревожно-пронзительный Бах.
БЕРЕЗКА
Распростерла голы руки,
Небо умоляя,
Не от праздности и скуки
Слезы в мох роняя.
Иль тоска тебя заела
И кручина гложет?
Иль любовью ты доспела
И весна тревожит.
И в томлении и муках,
Что-то ожидая,
Опустила плети-руки:
Знать судьба такая.
ПАМЯТЬ
Мне памятны горы Хингана,
Рев танковых мощных утроб,
Хунхуза в прицеле нагана
И пули, летящие в лоб.
Мне памятны воды Аргуни,
Понтонный, наведенный мост,
И штурм городка Чжо-Лан-Туня,
Который был очень не прост.
Мне памятны доты Хайлара
И ярость солдатских атак,
И память об этом не стара,
Ее не отдам я за так.
Все это и то, и другое
Живет в моем сердце с тех пор.
И вдруг набегает прибоем,
И доты стреляют в упор.
ПОКРОВ
Отошли косяки журавлей,
С мест обжитых с тоской улетая,
Воет ветер свирепей и злей,
Дух зимы исподволь обретая.
В разноцветии ярком листва
Отшумев в заколдованной неге,
Потерялась под хлопьями снега
В благодатные дни Покрова.
Снег летит, бесконечно летит,
Тучи хмурятся темнобелесым,
Опушило дороги, пути,
Поле с пашнею, лугом и лесом.
А наутро – деревья в снегу,
Неба синь в позолоте восхода,
В красоте несказанной природа,
Я её для себя сберегу.
ОЖИДАНИЕ
Ещё темны и низки тучи,
Ещё сиверко холодит,
И ворон под снежком колючим
Нахохлившись, молчком сидит…
Ещё невзрачны серы ветки,
Как и пожухлая трава
И дни погожие столь редки,
И местность будто не жива…
И косяки гусей усталых,
Не раз летая в сладком сне
К родным местам, озёрам талым,
Пока бездомны на земле.
Светла березка под окошком:
Она в томленьи мига ждёт
И вскоре в косы, при сережках
Нежнейший изумруд вплетёт.